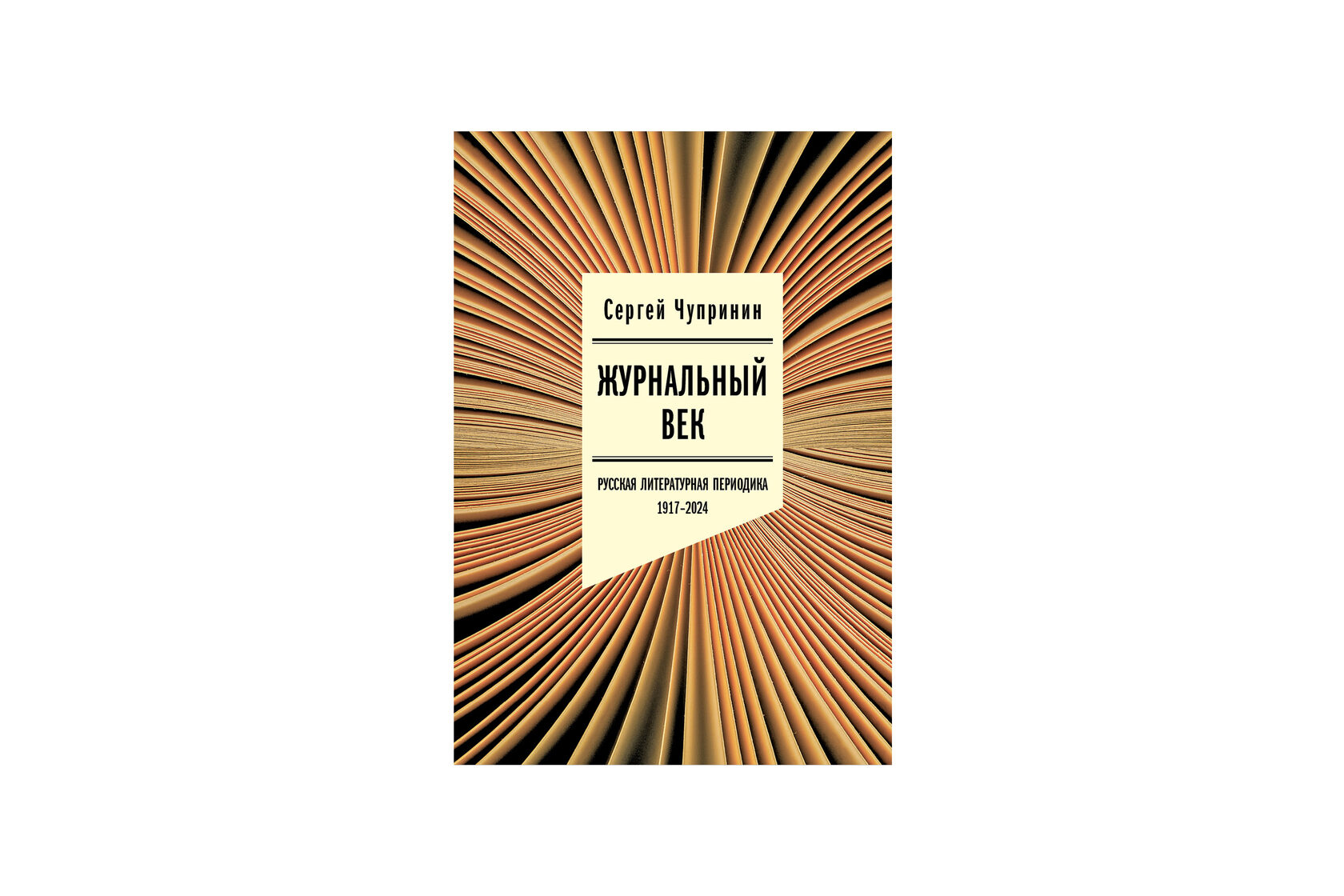Издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу «Журнальный век. Русская литературная периодика. 1917–2024» Сергея Чупринина — доктора филологических наук и главного редактора журнала «Знамя».
В этом труде, охватывающем более ста лет истории русской литературной периодики, автор выступает одновременно как исследователь и как участник процесса. Он сочетает научный, публицистический и энциклопедический подходы, выстраивая объемную картину минувшего журнального века.
С разрешения издательства «Фальтер» публикует отрывок, посвященный становлению литературного журнала «Юность».
В этом труде, охватывающем более ста лет истории русской литературной периодики, автор выступает одновременно как исследователь и как участник процесса. Он сочетает научный, публицистический и энциклопедический подходы, выстраивая объемную картину минувшего журнального века.
С разрешения издательства «Фальтер» публикует отрывок, посвященный становлению литературного журнала «Юность».
«Юность»: от фактов к легенде
Нестандартный формат, «полутолстый» объем, графика на цветной обложке каждого номера, позднее — элегантная эмблема Стасиса Красаускаса на титульной странице, большое количество иллюстраций, да к тому же в первых выпусках еще и шахматные партии, «Уголок филателиста», сатирический раздел «Пылесос», рубрика «Для младших братьев и сестер» — такой журнал с самого начала мог надеяться на массовый успех.
Именно надеяться, так как собственно литературная часть «Юности» ничего особенного поначалу не сулила: стихи Степана Щипачева и Николая Грибачева, статья Всеволода Кочетова на открытие одного из номеров, повести Виктора Баныкина и Нины Артюховой, «Рассказы о целинных землях» Анатолия Злобина, проза Ванды Василевской, Ивана Рахилло, Тихона Семушкина, Михаила Златогорова… — увы и ах, все ушло в отвал, все забыто, будто и не бывало никогда. Будущие звезды уже начинали, правда, проклевываться, но с чем? Роберт Рождественский со стихотворением «Комсомолец, слово скажи…», Андрей Вознесенский с не менее патетической одой «Голосует съезд», Евгений Евтушенко с поэмой «Считайте меня коммунистом»¹. Поэтому, если что и поддерживало стотысячный стартовый тираж, если что в «Юности» и читали на первых порах, то переводы — «Звездные дневники Ийона Тихого» поляка Станислава Лема (1955, № 2), «Путешествие на „Кон-Тики“» норвежца Тура Хейердала (1955, № 2–5). Ну и, начиная с «Дела „пестрых“» Аркадия Адамова (1956, № 1–2), детективы, конечно, или «Незнайку в Солнечном городе» Николая Носова (1958, № 8–9) — все то, словом, что проходило тогда по ведомству развлекательной литературы и было, соответственно, в большом дефиците.
Такое впечатление, что Валентин Катаев, назначенный главным, то ли сдавал экзамен на редакторскую законопослушность, то ли ждал пришествия нового писательского поколения, а пока оно не появилось, заполнял журнальные страницы либо собственным «Хуторком в степи» (1956, № 1–3), либо беспроигрышной «Бронзовой птицей» Анатолия Рыбакова (1956, № 11–12), а то и вовсе, Господи прости, «Сухой Буйволой» Семена Бабаевского (1958, № 3–4) и комсомольскими повестями Агнии Кузнецовой².
Разрыв шаблона произошел едва ли не случайно. Студент Литературного института Анатолий Гладилин принес в редакцию «Хронику времен Виктора Подгурского», и мурыжили ее около года, пока дочь Валентина Петровича не прочла валявшуюся дома без движения рукопись и, что называется, в добрый час подсунула ее отцу. Вот тут уж, надо полагать, сработал «хищный глазомер» опытного мастера: слабенькую, зато перспективную повесть опубликовали, и сентябрь 1956 года можно смело называть датой рождения той «Юности», какую полюбили молодые читатели.
Заметного общественного успеха еще не случилось: власть промолчала, серьезная критика на «Хронику» попросту не откликнулась, так что, — вспоминает А. Гладилин, — «всего было две рецензии на нее — в „Московском комсомольце“ и в „Комсомолке“. Такие сдержанные положительные рецензии, не более»³.
Однако пошли читательские письма — и в редакцию, и автору по месту учебы. Пошли диспуты в школах, вузах и на предприятиях. Так
нерадивый и легкомысленный студентик Литературного института, — рассказывает Василий Аксенов, — в одночасье стал первым знаменитейшим писателем нашего поколения. Такого в советской литературе не случалось уже несколько десятилетий, с тех пор как «золотые двадцатые» сменились «чугунными тридцатыми». <…> Влюбленный неудачник впервые потеснил плечом розовощеких роботов комсомольского энтузиазма, и это произошло на страницах той самой ранней «Юности»⁴.
Еще почти год прошел, тем не менее, пока в журнале не появилось «Продолжение легенды», написанное 28-летним литинститутским третьекурсником Анатолием Кузнецовым (1957, № 7). И оно-то, — вспоминает Гладилин, — «получило очень широкий общественный резонанс»,
собрало необыкновенное количество положительных рецензий. Потому что наконец советская власть получила то, что она хотела получить от писателей нашего поколения. Она получила рассказ о стройках коммунизма, о том, как молодой человек приехал на эти стройки и как ему сначала было трудно, а потом он добился трудовых успехов. Это было то, что надо. Причем, повторяю, написал это не какой-то старпер, который с трудом нашел бы на карте, где эта Братская ГЭС, или Ангарская ГЭС, или еще… Толя Кузнецов писал от лица участника событий, он знал материал, сам работал на стройке⁵.
И действительно, «Продолжение легенды» выходит пятью изданиями, полумиллионным тиражом печатается в «Роман-газете» (1958), по всей стране обсуждается на комсомольских собраниях, переводится на разные языки, О. Ефремов и М. Микаэлян ставят инсценировку повести в «Современнике» (1958), автора принимают в Союз писателей (1959). И всё к славе, даже пиратское издание повести на французском языке, от которого Кузнецов тут же с гневом отрекается: мол,
находится хитроумный негодяй, который берет книгу, изымает из нее целые главы, переводит так ловко, что отдельные места акцентируются, а другие «скромно вуалируются», пишет безобразное, лживое предисловие, снабжает книгу обложкой с изображением красной звезды за колючей проволокой, изобретает соответственное название «Звезда в тумане», об авторе утверждает, что он ищет бога, не зная его, — и призывает автора поклоняться не красной, а… вифлеемской звезде! <…> Меня возмущает, что мое имя стоит на обложке этой стряпни⁶.
Успех автора? Конечно, но и журнала. А еще через два года в редакцию свои первые рассказы «Наша Вера Ивановна» и «Асфальтовые дороги» прислал 26-летний врач Василий Аксенов. Эта публикация (1959, № 7), строго говоря, не была его дебютом, но бравурного стихотворения «Навстречу труду», опубликованного еще 24 декабря 1952 года под рубрикой «Литературное творчество студентов» в газете «Комсомолец Татарии», никто не заметил. Пробы пера в прозе тоже пока не слишком впечатляли, однако ведавший в редакции письмами Изидор Винокуров все-таки вытащил их из самотека⁷. И, — гласит легенда, — при обсуждении в редакции ранних аксеновских рассказов Катаев будто бы сказал:
Он станет настоящим писателем. Замечательным. Дальше читать не буду. Мне ясно. Он — писатель, умеет видеть, умеет блестяще выражать увиденное. Перечитайте одну эту фразу, она говорит о многом: «Стоячая вода канала похожа на запыленную крышку рояля».
И, как показали «Коллеги» (1960, № 6–7), Катаев⁸ не ошибся. Автор, что называется, проснулся знаменитым. По его повести устраивались читательские конференции и писались школьные сочинения. Феликс Кузнецов, критик уже маститый, но тогда либеральный, заявил, что «первая повесть двадцатисемилетнего врача поможет многим юным занять свое место в атаке» (Литературная газета, 14 июля 1960). На «Мосфильме» полным ходом шли съемки одноименного фильма с В. Ливановым, В. Лановым и О. Анофриевым (1962) в главных ролях. Аксенова, по рекомендации Юрия Бондарева, тоже еще либерального, приняли в Союз писателей, избрали чуть позже депутатом районного Совета, ввели (вместе с Евгением Евтушенко) в редколлегию «Юности».
А о самой «Юности», о ее стихах и прозе стали спорить еще пуще. У «Юности» появились убежденные враги, оценивавшие журнал как «юное распутное создание, матерое в цинизме, в изгаживании всего, что связано с традициями, моралью, культурой нашего народа, с историей страны»⁹. Зато появились и преданные друзья: свежие номера «Юности» зачитывали до дыр, передавали из рук в руки, так что, — по позднейшей оценке Анатолия Рыбакова, — «журнал сыграл свою роль в том рывке, который сделала литература в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов»¹⁰.
Именно надеяться, так как собственно литературная часть «Юности» ничего особенного поначалу не сулила: стихи Степана Щипачева и Николая Грибачева, статья Всеволода Кочетова на открытие одного из номеров, повести Виктора Баныкина и Нины Артюховой, «Рассказы о целинных землях» Анатолия Злобина, проза Ванды Василевской, Ивана Рахилло, Тихона Семушкина, Михаила Златогорова… — увы и ах, все ушло в отвал, все забыто, будто и не бывало никогда. Будущие звезды уже начинали, правда, проклевываться, но с чем? Роберт Рождественский со стихотворением «Комсомолец, слово скажи…», Андрей Вознесенский с не менее патетической одой «Голосует съезд», Евгений Евтушенко с поэмой «Считайте меня коммунистом»¹. Поэтому, если что и поддерживало стотысячный стартовый тираж, если что в «Юности» и читали на первых порах, то переводы — «Звездные дневники Ийона Тихого» поляка Станислава Лема (1955, № 2), «Путешествие на „Кон-Тики“» норвежца Тура Хейердала (1955, № 2–5). Ну и, начиная с «Дела „пестрых“» Аркадия Адамова (1956, № 1–2), детективы, конечно, или «Незнайку в Солнечном городе» Николая Носова (1958, № 8–9) — все то, словом, что проходило тогда по ведомству развлекательной литературы и было, соответственно, в большом дефиците.
Такое впечатление, что Валентин Катаев, назначенный главным, то ли сдавал экзамен на редакторскую законопослушность, то ли ждал пришествия нового писательского поколения, а пока оно не появилось, заполнял журнальные страницы либо собственным «Хуторком в степи» (1956, № 1–3), либо беспроигрышной «Бронзовой птицей» Анатолия Рыбакова (1956, № 11–12), а то и вовсе, Господи прости, «Сухой Буйволой» Семена Бабаевского (1958, № 3–4) и комсомольскими повестями Агнии Кузнецовой².
Разрыв шаблона произошел едва ли не случайно. Студент Литературного института Анатолий Гладилин принес в редакцию «Хронику времен Виктора Подгурского», и мурыжили ее около года, пока дочь Валентина Петровича не прочла валявшуюся дома без движения рукопись и, что называется, в добрый час подсунула ее отцу. Вот тут уж, надо полагать, сработал «хищный глазомер» опытного мастера: слабенькую, зато перспективную повесть опубликовали, и сентябрь 1956 года можно смело называть датой рождения той «Юности», какую полюбили молодые читатели.
Заметного общественного успеха еще не случилось: власть промолчала, серьезная критика на «Хронику» попросту не откликнулась, так что, — вспоминает А. Гладилин, — «всего было две рецензии на нее — в „Московском комсомольце“ и в „Комсомолке“. Такие сдержанные положительные рецензии, не более»³.
Однако пошли читательские письма — и в редакцию, и автору по месту учебы. Пошли диспуты в школах, вузах и на предприятиях. Так
нерадивый и легкомысленный студентик Литературного института, — рассказывает Василий Аксенов, — в одночасье стал первым знаменитейшим писателем нашего поколения. Такого в советской литературе не случалось уже несколько десятилетий, с тех пор как «золотые двадцатые» сменились «чугунными тридцатыми». <…> Влюбленный неудачник впервые потеснил плечом розовощеких роботов комсомольского энтузиазма, и это произошло на страницах той самой ранней «Юности»⁴.
Еще почти год прошел, тем не менее, пока в журнале не появилось «Продолжение легенды», написанное 28-летним литинститутским третьекурсником Анатолием Кузнецовым (1957, № 7). И оно-то, — вспоминает Гладилин, — «получило очень широкий общественный резонанс»,
собрало необыкновенное количество положительных рецензий. Потому что наконец советская власть получила то, что она хотела получить от писателей нашего поколения. Она получила рассказ о стройках коммунизма, о том, как молодой человек приехал на эти стройки и как ему сначала было трудно, а потом он добился трудовых успехов. Это было то, что надо. Причем, повторяю, написал это не какой-то старпер, который с трудом нашел бы на карте, где эта Братская ГЭС, или Ангарская ГЭС, или еще… Толя Кузнецов писал от лица участника событий, он знал материал, сам работал на стройке⁵.
И действительно, «Продолжение легенды» выходит пятью изданиями, полумиллионным тиражом печатается в «Роман-газете» (1958), по всей стране обсуждается на комсомольских собраниях, переводится на разные языки, О. Ефремов и М. Микаэлян ставят инсценировку повести в «Современнике» (1958), автора принимают в Союз писателей (1959). И всё к славе, даже пиратское издание повести на французском языке, от которого Кузнецов тут же с гневом отрекается: мол,
находится хитроумный негодяй, который берет книгу, изымает из нее целые главы, переводит так ловко, что отдельные места акцентируются, а другие «скромно вуалируются», пишет безобразное, лживое предисловие, снабжает книгу обложкой с изображением красной звезды за колючей проволокой, изобретает соответственное название «Звезда в тумане», об авторе утверждает, что он ищет бога, не зная его, — и призывает автора поклоняться не красной, а… вифлеемской звезде! <…> Меня возмущает, что мое имя стоит на обложке этой стряпни⁶.
Успех автора? Конечно, но и журнала. А еще через два года в редакцию свои первые рассказы «Наша Вера Ивановна» и «Асфальтовые дороги» прислал 26-летний врач Василий Аксенов. Эта публикация (1959, № 7), строго говоря, не была его дебютом, но бравурного стихотворения «Навстречу труду», опубликованного еще 24 декабря 1952 года под рубрикой «Литературное творчество студентов» в газете «Комсомолец Татарии», никто не заметил. Пробы пера в прозе тоже пока не слишком впечатляли, однако ведавший в редакции письмами Изидор Винокуров все-таки вытащил их из самотека⁷. И, — гласит легенда, — при обсуждении в редакции ранних аксеновских рассказов Катаев будто бы сказал:
Он станет настоящим писателем. Замечательным. Дальше читать не буду. Мне ясно. Он — писатель, умеет видеть, умеет блестяще выражать увиденное. Перечитайте одну эту фразу, она говорит о многом: «Стоячая вода канала похожа на запыленную крышку рояля».
И, как показали «Коллеги» (1960, № 6–7), Катаев⁸ не ошибся. Автор, что называется, проснулся знаменитым. По его повести устраивались читательские конференции и писались школьные сочинения. Феликс Кузнецов, критик уже маститый, но тогда либеральный, заявил, что «первая повесть двадцатисемилетнего врача поможет многим юным занять свое место в атаке» (Литературная газета, 14 июля 1960). На «Мосфильме» полным ходом шли съемки одноименного фильма с В. Ливановым, В. Лановым и О. Анофриевым (1962) в главных ролях. Аксенова, по рекомендации Юрия Бондарева, тоже еще либерального, приняли в Союз писателей, избрали чуть позже депутатом районного Совета, ввели (вместе с Евгением Евтушенко) в редколлегию «Юности».
А о самой «Юности», о ее стихах и прозе стали спорить еще пуще. У «Юности» появились убежденные враги, оценивавшие журнал как «юное распутное создание, матерое в цинизме, в изгаживании всего, что связано с традициями, моралью, культурой нашего народа, с историей страны»⁹. Зато появились и преданные друзья: свежие номера «Юности» зачитывали до дыр, передавали из рук в руки, так что, — по позднейшей оценке Анатолия Рыбакова, — «журнал сыграл свою роль в том рывке, который сделала литература в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов»¹⁰.
¹ Нормативная критика, впрочем, и тут бдела. «<…> Вызывает удивление, что, решив написать поэму с таким обязывающим названием, Евтушенко сосредоточил свое внимание главным образом на изображении тех, кто недостоин носить это высокое имя, кто примазался к революции. <…> Получается чудовищная картина — в нашем обществе чуть не все и вся заполонили мерзавцы, и поэт, как некий Дон-Кихот, собирается вести с ними войну, да еще „гражданскую“, да еще „Отечественную“…» (Кириллов М. Плохое начало хорошего номера // Литературная газета. 1960 13 февраля).
² «Она, — не забывает отметить Станислав Рассадин, — при прочих своих достоинствах была супругой главы писательского департамента Георгия Маркова» (Рассадин С. Книга прощаний: Воспоминания о друзьях и не только о них. М.: Текст, 2004 С. 58).
³ Гладилин А. Улица генералов: Попытка мемуаров. М.: Вагриус, 2008 С. 72.
⁴ Аксенов В. Одно сплошное Карузо. М.: Эксмо, 2014 С. 315–316.
⁵ Гладилин А. Улица генералов. С. 119, 120.
⁶ Кузнецов А. Литературный разбой // Литературная газета. 1960 2 июля. Оказавшись на Западе, Кузнецов так прокомментировал эту историю: «Я ясно отдавал себе отчет в том, что произошло. Переводчик, отец Шалей, просто счел ненужным переводить те оптимистические главы, которые были вставлены в повесть помимо меня. Он их кратко резюмировал, пояснив, что они более низкого качества, чем остальные. Он меня вполне точно понял… Искажение моей книги было совершено в России, а я был принужден заявить, что искажением явился перевод, сделанный аббатом Шалей. Мой протест появился в „Литературной газете“ в России и в „Летр франсэз“ во Франции, а также был воспроизведен в ряде газет» (Толстой И. Цена отречения: Случай Анатолия Кузнецова // https://www.liveinternet.ru/users/feigele/post368395452, запись от 1 августа 2015 года).
⁷ См.: Сидоров Е. Аксенов в «Юности» // Знамя. 2012 № 7.
⁸ По его же, кстати, совету авторское название этой повести — «Рассыпанной цепью» — было изменено:
«— Русские врачи издавна называли друг друга „коллегами“. Не дать ли такое название повести?
— „Коллеги“, „Коллеги“, — повторил про себя Аксенов, — действительно, звучит» (Петров Д.
Василий Аксенов. Сентиментальное путешествие. М.: Эксмо, 2012).
⁹ Лобанов М. В сражении и любви: Опыт духовной биографии. М.: Трифонов Печенгский монастырь; Ковчег, 2013 С. 91.
¹⁰ Рыбаков А. Роман-воспоминание. СПб.: Азбука, 2016 С. 263.
² «Она, — не забывает отметить Станислав Рассадин, — при прочих своих достоинствах была супругой главы писательского департамента Георгия Маркова» (Рассадин С. Книга прощаний: Воспоминания о друзьях и не только о них. М.: Текст, 2004 С. 58).
³ Гладилин А. Улица генералов: Попытка мемуаров. М.: Вагриус, 2008 С. 72.
⁴ Аксенов В. Одно сплошное Карузо. М.: Эксмо, 2014 С. 315–316.
⁵ Гладилин А. Улица генералов. С. 119, 120.
⁶ Кузнецов А. Литературный разбой // Литературная газета. 1960 2 июля. Оказавшись на Западе, Кузнецов так прокомментировал эту историю: «Я ясно отдавал себе отчет в том, что произошло. Переводчик, отец Шалей, просто счел ненужным переводить те оптимистические главы, которые были вставлены в повесть помимо меня. Он их кратко резюмировал, пояснив, что они более низкого качества, чем остальные. Он меня вполне точно понял… Искажение моей книги было совершено в России, а я был принужден заявить, что искажением явился перевод, сделанный аббатом Шалей. Мой протест появился в „Литературной газете“ в России и в „Летр франсэз“ во Франции, а также был воспроизведен в ряде газет» (Толстой И. Цена отречения: Случай Анатолия Кузнецова // https://www.liveinternet.ru/users/feigele/post368395452, запись от 1 августа 2015 года).
⁷ См.: Сидоров Е. Аксенов в «Юности» // Знамя. 2012 № 7.
⁸ По его же, кстати, совету авторское название этой повести — «Рассыпанной цепью» — было изменено:
«— Русские врачи издавна называли друг друга „коллегами“. Не дать ли такое название повести?
— „Коллеги“, „Коллеги“, — повторил про себя Аксенов, — действительно, звучит» (Петров Д.
Василий Аксенов. Сентиментальное путешествие. М.: Эксмо, 2012).
⁹ Лобанов М. В сражении и любви: Опыт духовной биографии. М.: Трифонов Печенгский монастырь; Ковчег, 2013 С. 91.
¹⁰ Рыбаков А. Роман-воспоминание. СПб.: Азбука, 2016 С. 263.
«Фальтер» публикует тексты о важном. Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы не пропустить.
Хотите поддержать редакцию? Прямо сейчас вы можете поучаствовать в сборе средств. Спасибо 🖤